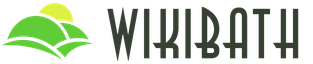Что значит свобода для журналистов. Введение. Основные принципы новой журналистики
В.Я. БРЮСОВ (хрестоматия по журналистике)
(1873-1924)
Свобода слова
«Литературное дело, - пишет г. Ленин в «Новой жизни» (№ 12), - не может быть индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов-сверхчеловеков! Литературное дело должно стать колесиком и винтиком одного единого великого социал-демократического механизма» . И далее: «Абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная зависимость от денежного мешка»...
Г. Ленин делает сам себе возражения от лица «какого-нибудь интеллигента, пылкого сторонника свободы» в такой форме: «Как! Вы хотите подчинения коллективности такого тонкого индивидуального дела, как литературное творчество! Вы хотите, чтобы рабочие по большинству голосов решали вопросы науки, философии, эстетики! Вы отрицаете абсолютную свободу абсолютно-индивидуального идейного творчества!» И отвечает: «Успокойтесь, господа! Речь идет о партийной литературе и ее подчинении партийному контролю... Я обязан тебе предоставить, во имя свободы слова, полное право кричать, врать и писать, что угодно. Но ты обязан мне, во имя свободы союзов, предоставить право заключать или расторгать союз с людьми, говорящими то-то и то-то... Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды... Свобода мысли и критики внутри партии никогда не заставит нас забыть о свободе группировки людей в вольные союзы, называемые партиями».
Вот по крайней мере откровенные признания! Г. Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли: но меньше всего в его словах истинной любви к свободе. Свободная («внеклассовая») литература для него - отдаленный идеал, который может быть осуществлен только в социалистическом обществе будущего. Пока же «лицемерно свободной, а на деле связанной с буржуазией литературе» г. Ленин противопоставляет «открыто связанную с пролетариатом литературу». Он называет эту последнюю «действительно свободной», но совершенно произвольно. По точному смыслу его определений обе литературы не свободны. Первая тайно связана с буржуазией, вторая открыто с пролетариатом. Преимущество второй можно видеть в более откровенном признании своего рабства, а не в большей свободе. Современная литература, в представлении г. Ленина, на службе у «денежного мешка»; партийная литература будет «колесиком и винтиком» обще пролетарского дела. Но если мы и согласимся, что общепролетарское дело - дело справедливое, а денежный мешок - нечто постыдное, разве это изменит степень зависимости? Раб мудрого Платона все-таки был рабом, а не свободным человеком. <...>Свободе слова г. Ленин противопоставляет свободу союзов и грозит писателям внепартийным исключением из партии... Что это значит? Странно было бы толковать это в том смысле, что писателям, пишущим против социал-демократии, не будут предоставлены страницы социал-демократических изданий. Для этого не надо создавать «партийной» литературы. Предлагая только выдержанность направления в журналах и газетах, смешно было бы восклицать, как это делает г. Ленин: «За работу же, товарищи! Перед нами трудная и новая, но великая и благодарная задача...» Ведь и теперь, когда «новая и великая» задача еще не решена, писателю-«декаденту» не приходит в голову предлагать свои стихи в «Русский вестник», а поэты «Русского богатства» не имеют претензии, чтобы их печатали в «Северных цветах». Нет сомнения, что угроза г. Ленина «прогнать» имеет иной, более обширный смысл. Речь идет о гораздо большем: утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены (членам партии) никакие возражения.
Г. Ленин готов предоставить право «кричать, врать и писать что угодно», но за дверью. Он требует расторгать союз с людьми «говорящими то-то и то-то». Итак, есть слова, которые запрещено говорить. «Партия есть добровольный союз, который неминуемо распался бы, если бы он не очищал себя от членов, которые проповедуют антипартийные взгляды». Итак, есть взгляды, высказывать которые воспрещено. «Свобода мысли и свобода критики внутри партии никогда не заставит нас забыть о свободе группировки людей в вольные союзы». Иначе говоря, членам социал-демократической партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самым устоям доктрины. Тех, кто отваживается на это, надо «прогнать». В этом решении - фанатизм людей, не допускающих мысли, что их убеждения могут быть ложны. Отсюда, один шаг до заявления халифа Омара: «Книги, содержащие то же, что Коран, лишние, содержащие иное, - вредны».
Почему, однако, осуществленная таким образом партийная литература именуется истинно-свободной? Многим ли отличается новый цензорский устав, вводимый в социал-демократической партии, от старого, царившего у нас до последнего времени? При господстве старой цензуры дозволялась критика отдельных сторон господствующего строя, но воспрещалась критика его основоположений. В подобном же положении остается свобода слова и внутри социал-демократической партии. Разумеется, пока не согласным с такой тиранией представляется возможность перейти в другие партии. Но и при прежнем строе у писателей протестантов оставалась аналогичная возможность уехать, подобно Герцену, за рубеж. Однако, как у каждого солдата в ранце есть маршальский жезл, так каждая политическая партия мечтает стать единственной в стране, отождествить себя с народом. Более, чем другая, надеется на это партия социал-демократическая. Таким образом, угроза изгнанием из партии является в сущности угрозой извержениям из народа. При господстве старого строя писатели, восставшие на его основы, ссылались, смотря по степени «радикализма» в их писаниях, в места отдаленные и не столь отдаленные. Новый строй грозит писателям-«радикалам» гораздо большим: изгнанием за пределы общества, ссылкой на Сахалин одиночества.
Екатерина II определяла свободу так: «Свобода есть возможность делать все, что законы позволяют». Социал-демократы дают сходное определение: «Свобода слова есть возможность говорить все, согласное с принципами социал-демократии». Такая свобода не может удовлетворить нас, тех, кого г. Ленин презрительно обзывает «гг. буржуазные индивидуалисты» и «сверхчеловеки». Для нас такая свобода кажется лишь сменой одних цепей на новые. Пусть прежде писатели были закованы в кандалы, а теперь им предлагают связать руки мягкими пеньковыми веревками, но свободен лишь тот, на ком нет оков даже из роз и лилий. «Долой писателей беспартийных»! - восклицает г. Ленин. Следовательно, беспартийность, т.е. свободомыслие, есть уже преступление. Ты должен принадлежать к партии (нашей или, по крайней мере, к официальной оппозиции), иначе «долой тебя!» Но в нашем представлении свобода слова неразрывно связана со свободой суждения и с уважением к чужому убеждению. Для нас дороже всего свобода исканий, хотя бы она и привела нас к крушению всех наших верований и идеалов. Где нет уважения к мнению других, где ему только надменно предоставляют право «врать», не желая слушать, там свобода - фикция.
«Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, господин писатель? от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии?» - спрашивает г. Ленин. И думаю, что на этот вопрос не один кто-нибудь, а многие твердо и смело ответят: «да, мы свободны». Разве Артюр Рембо не писал своих стихов, когда у него не было никакого издателя, ни буржуазного, ни не буржуазного, никакой публики, которая могла бы потребовать от него «порнографии» или чего другого. Или разве не писал Поль Гоген своих картин, которые упорно отвергались разными жюри и не находили себе, до самой смерти художника, никаких покупателей? И разве целый ряд других работников «нового искусства» не отстаивал своих идеалов вопреки полному пренебрежению со стороны всех классов общества? Заметим кстати, что работники эти были вовсе не из числа «обеспеченных буржуа», а нередко должны были, как тот же Рембо, как тот же Гоген, терпеть и голод и бесприютность.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(Факультет журналистики)
Контрольная работа
«Свобода журналистики, как я ее понимаю»
Контрольная работа
Студента 1 курса Ж з/о
Варламовой Ж.А.
Проверил (а):
Хомчук-Черная Т.Н.
ВОРОНЕЖ 2013 г.
Мне повезло в жизни с мамой. Всегда современная, свободолюбивая и интересная не только для меня, но и для окружающих ее людей, она учила меня духовной свободе. Но все по порядку.
В мои одиннадцать лет моя мама (Татьяна Александровна Карягина) пришла в журналистику. Тяготела к публицистической деятельности мама давно, хотя имела филологическое образование. Но жизнь распорядилась так, что только к ее тридцати годам в строительной корпоративной газете «Прогресс» появилось место, и мама стала корреспондентом. С этого времени я стала внимательно прислушиваться к маминым рассказам о жизни редакции, о ее работе и статьях. И именно с того времени я поняла, что в нашей стране существовала жесткая цензура и совершенно отсутствовала свобода слова, пока не развалился Советский Союз.
Когда я взяла в руки статью В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература» (1905 г.), ко мне пришло осознание, почему в нашей стране советского периода было такое строгое отношение к свободе слова.
Еще в 1905 году Владимир Ильич Ленин, воспользовавшись ситуацией, когда «царизм уже не в силах победить революцию…революция еще не в силах победить царизма», стал пропагандировать партийную литературу. Сам Ленин был прогрессивным, как говорится современным языком, креативным человеком. Его глобальные идеи имели большой успех среди широких масс людей, причем не только рабочих и крестьян. Многие интеллигентные люди разделяли взгляды Владимира Ильича и шли за ним.
Октябрьские события 1905 года дали некоторые первые свободы обществу, которое к тому времени было расколото на богатых, зажравшихся, ленивых буржуев и нищих, голодных, находящихся за чертой бедности, людей. И статья Ленина, своевременно появившаяся в журнале «Новая жизнь» от 13 ноября 1905 года, стала своеобразным призывом к действию. Народ, уставший от беспредела богатых, от «проклятой поры эзоповских речей, литературного холопства, рабьего языка…», готов был идти за тем, кто предложил «выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме».
Но уже в первых строках статьи чувствовалось, что будет жесткий контроль партии и партийцев над любой литературой. И именно такой контроль существовал в нашей стране вплоть до 1991 года. «Шаг вправо, шаг влево - расстрел» - такой подтекст я вижу в данной статье Ленина. «Выйдя из плена крепостной цензуры… Мы хотим создать и мы создадим свободную печать… в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма» - вполне разумные слова Ленина, которые он тут же сам и опровергает: «Для социалистического пролетариата литературное дело не может быть вообще индивидуальным делом, не зависимым от общего пролетарского дела». Так все-таки литературное дело будет зависимым! Сам Ленин против индивидуальности.
Но я считаю, что каждый журналист индивидуален, и в этом вся его прелесть и привлекательность. Взять хотя бы тех журналистов, о которых с восторгом рассказывала моя мама, а потом и я сама убедилась в их высоком профессионализме и индивидуализме. Валерий Аграновский – культовая фигура в российской журналистике, больше пятидесяти лет отдавший «второй древнейшей профессии» и писательскому ремеслу. Татьяна Тэсс своими очерками в газете «Известия», как оазисами живого слова среди официоза и сухих производственных статей, давала нам, читателям, возможность мыслить, рассуждать и спорить. Леонид Азарх – известный голос «Радио России», чьи передачи я ждала и слушала, внимая каждому слову. Его программа «Третья половина» о ценных бумагах и банках, в которой некая семья, где жена – мотовка, а муж – скопидом, решают сложные экономические проблемы вместе со слушателями, приводила меня в восторг. Вот она – индивидуальность, против которой выступал Ленин в своей статье.
С одной стороны, В.И. Ленин говорит мудро и понятно: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». И тут же противоречит: «…лицемерно – свободной, а на деле связанной с буржуазией, литературе противопоставить действительно свободную, открыто связанную с пролетариатом литературу». То есть, пишите о пролетариате и для пролетариата, а если нет – вы не с нами – вы изгой и отщепенец, другого не дано. А где же тогда свобода? «Долой литераторов беспартийных», - говорит Ленин, все должно работать на партию социал-демократов.
И давайте вспомним, как умнейшие люди России, которые были не согласны с таким лозунгом Владимира Ильича, стали эмигрировать за границу. Бунин, Набоков, Бродский, Солженицын - я могу перечислять их имена бесконечно. Для меня стало страшным событием, когда я узнала о судьбе Марины Цветаевой, моей любимой поэтессы. Она уехала за границу, потом ее мужа заставили вернуться, за ним вернулась и сама Марина с сыном. Не выдержав испытаний, в Елабуге Цветаева наложила на себя руки. Вот страшные последствия статьи В.И. Ленина, его призывов и лозунгов.
Я помню мамины слезы и страх потерять работу. «Вы не вступили в партию, Татьяна Александровна, вам не место в городской газете», - говорили ей в горисполкоме. Под большим давлением мама вступила в партию, впоследствии стала главным редактором газеты «Речник Молдавии», но ее свободолюбивый дух так и не был сломлен. Тот дух, который в своей статье Владимир Ленин клеймит и запрещает. «Перед нами трудная и новая задача – организовать обширное, разностороннее, разнообразное литературное дело в ТЕСНОЙ и НЕРАЗРЫВНОЙ связи с социал-демократическим рабочим движением». И ни шага в сторону! Но ведь это не свобода, это рамки. А в результате: Мандельштама нельзя было найти ни в одной библиотеке, Булгакова читали ночью, его произведения распечатывали на плохом ротаторе и передавали из рук в руки. И таких примеров сотни.
Свою маму я слушала, впитывая каждое слово: «Человек свободен тогда, когда свобода есть в его душе, когда он духовно свободен, раскрепощен, но не развращен». Основа журналистики – честность, открытость, непредвзятость. Это верх профессионализма. Вернувшись из Молдавии на родину в наш поселок Подгоренский, мама устроилась работать на местное радио. И мы вместе с ней любили слушать радиопередачи под названием «Перепутье» замечательной журналистки Татьяны Нюхиной. Жаль, что сейчас этих передач нет, а если и есть, то в повторе.
Вот почему я полностью согласна со статьей Аврелия (В. Брюсова) «Свобода слова», которая вышла сразу за статьей Ленина в журнале «Весы» в том же 1905 году. «Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли: но меньше всего в его словах истинной любви к свободе. Свободная («внеклассовая») литература для него – отдаленный идеал…» Буржуазная литература является для Ленина лицемерно свободной, а «открыто связанная с пролетариатом литература» - «действительно свободна». Но видно невооруженным глазом, что обе литературы не свободны. Ленин четко и открыто говорит, что литераторы будут рабами пролетариата. Но мы же знаем, что раб, он всегда раб, хоть как его не назови. Как говорит В. Брюсов: «Раб мудрого Платона все-таки был рабом, а не свободным человеком».
Ленин всех упорно заталкивает в рамки партийности. Это стало страшным, когда его последователи проводили «чистки» в партийных рядах. Как уничтожали лучших, закрывали, ссылали на Соловки. Вот он, итог ленинских призывов. Мы все это помнили, помним и с содроганием будем вспоминать еще долго. «Мы не можем не видеть, что социал-демократы добивались свободы исключительно для себя, что париям, стоящим вне партии, крохи свобод достались случайно, на время, ПОКА грозное «долой» не имеет еще значения эдикта», - пишет Валерий Брюсов. Он как будто предчувствует беду, которая охватит наше государство, и в пучине несвободы будут гибнуть умнейшие люди той эпохи.
Ленин предлагает прогонять «таких членов, которые пользуются фирмой партии для проповеди антипартийных взглядов», но слово «прогнать» имеет по Брюсову «более обширный смысл». «Утверждаются основоположения социал-демократической доктрины, как заповеди, против которых не позволены (членам партии) никакие возражения, - пишет Валерий Брюсов. - Итак, есть слова, которые запрещено говорить, и взгляды, которые запрещено высказывать». «Членам социал-демократической партии дозволяется лишь критика частных случаев, отдельных сторон доктрины, но они не могут критически относиться к самим устоям доктрины», - слова В. Брюсова, с которыми я столкнулась в жизни.
Возмущенная, вся в растрепанных чувствах, мама пришла как-то раз домой в 1987 году. «Меня руководство отчитало за мою статью, в которой я резко рассказываю о взяточничестве в отдельно взятой организации, - стала рассказывать о ситуации на работе моя мама. – Писать о проблеме разрешают, но только в частном случае. Например, взяточник Иванов попался и его судили, а о том, что Иванов - выходец из крупной организации, где взяточник сидит на взяточнике и взяточником погоняет, писать нельзя». Тогда Татьяну Карягину чуть не уволили из редакции. Уже тогда я понимала, что быть свободолюбивой – опасный путь. И все равно громко в школе на уроках литературы высказывала свое мнение о неприятии шолоховских произведений, пронизанных партийностью и советизмом. Особенно не нравилась мне «Поднятая целина». Я не умаляю талант Шолохова как писателя, но не приемлю такую форму изложения, такой взгляд на жизнь.
Еще в 8-м классе я доказывала своей учительнице по литературе, что нигилизм Рахметова в произведении Чернышевского имеет место быть и существовать. За что мне поставили неудовлетворительную оценку, а я написала второе сочинение, где доказала, что Рахметов был прав в своих взглядах на жизнь. Чем добилась исправления оценки и уважения педагога. Представляю, каково было Брюсову в то революционное время жить и бороться за свободу слова.
Со свободой слова в наше время, конечно, стало полегче. Здравомыслящие, талантливые люди живут в нашей стране. Они всегда на шаг впереди всех. Они пугают обывателей харизмой, вот и боязно некоторым редакторам печатать или давать в эфир прогрессивные вещи. Получается как у Грибоедова. «Ах, что скажет княгиня Марья Алексевна?», - ужасается «высоких» мнений Фамусов в «Горе от ума».
Особенно это ярко выражено на местном уровне. Я всего год работаю в районной газете «Подгоренец» обозревателем, но уже не раз сталкивалась с «цензурой» местного значения. Однажды даже руки опустились, и работать в журналистике перехотелось. Но побывав на медиа-форуме и послушав таких журналистов, как Всеволод Богданов (председатель Союза журналистов России), Генрих Юшкявичус (вице-президент Всемирной Евразийской академии телевидения и радио), Владимир Лившиц (руководитель информационно-аналитического центра Национальной ассоциации телерадиовещателей), Максим Шевченко (ведущий Первого канала ТВ), поняла, что быть настоящим журналистом почетно и важно. И если надо будет бороться за свободу слова - пусть эти слова даже покажутся вам пафосными - я пойду и в бой, и на баррикады.
Только в 2013 году в мире погибло около семидесяти журналистов, из них два россиянина. Каждый погибший - индивидуальность, яркая личность, которая не боится делать свою работу в «горячих точках», затрагивать опасные темы и нести людям достоверную информацию. Еще Солженицын говорил, что людей творческих, ярких, неординарных надо собирать вместе, это будет огромный шаг вперед к прогрессу. А прогресс, особенно в развитии журналистики, идет семимильными шагами. Появление новых форм взаимодействия с аудиторией, внедрение интерактива во все сферы массовой коммуникации помогает мне, как будущему журналисту, работать в полную силу и достигать высоких результатов.
И, как у Валерия Брюсова в статье «Свобода слова», «как у каждого солдата в ранце есть маршальский жезл», у меня тоже есть огромное желание. Когда я стану главным редактором своего печатного издания, обязательно соберу в один коллектив талантливых и неординарных индивидуальностей. А они, в свою очередь, смогут работать вместе. И сообща будут создавать истинные шедевры журналистского искусства, но об этом вы узнаете позже)))
Основная литература:
Статья В.И. Ленина «Партийная организация и партийная литература»;
Статья В. Брюсова «Свобода слова».
Дополнительная литература:
В. Аграновский «Вторая древнейшая: беседы о журналистике»;
Е. Прохоров «Введение в теорию журналистики»;
В. Тулупов «Теория и практика современной российской журналистики»;
Информацию о Леониде Азархе, Татьяне Тэсс (Сосюра) с сайта people.ru;
Средства массовой информации и коммуникации часто вызывают полемику в обществе. Вопросы массовых коммуникаций важны потому, что прямо или косвенно оказывают влияние на жизни людей. Ярким примером может служить освещение вопросов экономики, охраны окружающей среды, неизменно вызывающих критику. Аудитория СМИ любит обсуждать полученную из газет или с экранов информацию и делает это, не всегда хорошо владея предметом и понимая существующие проблемы. Но, безусловно, люди имеют право выражать свои мнения, делиться впечатлениями. Общепринято, что «тот, кто платит, тот и заказывает музыку», и поэтому вопросы собственности на СМИ и контроля за ними также всегда в центре внимания тех, кого интересует эта область. Влияние, которое СМИ оказывают на общество, тоже привлекает внимание и порождает дискуссии. СМИ уже по определению находятся на виду, что делает их весьма и весьма уязвимыми для всесторонних нападок. Работа журналистов подвергается критике вне зависимости от того, нарушают ли они законы профессиональной этики или нет. «Профессия предоставляет журналисту право и, более того, вменяет ему в обязанность вершить от имени общества публичный моральный суд над явлениями, привлекающими внимание общества»,- пишет в своей книге главный редактор «Журналиста» Д.С. Авраамов. Сам процесс журналистского труда, а главное, его результат, так или иначе, затрагивают интересы многих. О профессиональной пригодности человека к журналистике нельзя судить без учета его нравственных качеств, которые для этого вида труда имеют не меньшее значение, чем квалификация. Профессиональное здесь практически всегда выступает как моральное, и наоборот.
Средства массовой информации, опираясь на истинное знание, помогают читателю ориентироваться в постоянно меняющемся, бесконечно большом и, в общем, мало знакомом лично ему мире. Но для того, чтобы пресса могла осуществлять свое предназначение и при этом не нарушать законных интересов тех, с кем журналист вступает в контакт, его поведение должно регулироваться. При этом правда возникает вопрос, где грань этого регулирования и что происходит со свободой журналистского творчества.
Свобода журналиста как понятие, проблема появляется вместе с развитием средств массовой информации и активным включением их в политическую жизнь общества. Прежде чем говорить о свободе необходимо осознать, что подразумевается под понятием «свобода». «Понимание свободы как ничем не ограниченной возможности говорить и писать, что угодно характерна для необразованного, примитивного и поверхностного представления»,- писал Гегель. Действительно, было бы странно, если бы при действующей в государстве статье Уголовного кодекса о наказании за разжигание расовой нетерпимости журналист, призывающий к этому через СМИ, освобождался бы от ответственности на основании гарантированной Конституцией РФ свободы средств массовой информации. То есть, в данном случае понятие «свобода» следует воспринимать как «независимость», что означает отсутствие ограничений, кроме определённых законом. Таким образом, положения закона, накладывающие ограничения на действия журналиста, являются одними из регуляторов в журналистике.
В настоящее время, в связи с отменой ряда ограничений, прежде всего цензуры, возможности свободного выбора для журналиста неизмеримо расширились. Потому свобода предстает перед пишущим не только как объективная возможность выбора, но и как субъективная способность правильно его произвести.
В свою очередь эта свобода легко оборачивается произволом, если пишущий не имеет четких нравственных ориентиров, тем более что в условиях административно-командной системы трудно было наработать сколько-нибудь солидный опыт свободного и одновременно ответственного обращения со словом. А при нехватке такого опыта воздух свободы способен одурманить не одну горячую голову.
Мощный поток критики, обрушившейся со страниц печатных изданий, только подтверждает эту банальную истину. Вместе с очищающей критической волной выплескиваются недостоверные сведения и некомпетентные суждения, уничижительные оценки, задевающие честь и достоинство граждан. Да, публичная критика способна исцелять, но она может нанести и глубокую, незаживающую рану. Поэтому критические публикации вызывают особенно пристальное внимание и оцениваются как читателем, так и профессиональной средой не только с деловых позиций, а прежде всего в категориях морального сознания: с точки зрения объективности, смелости, справедливости.
Сейчас отношение к проблемам профессиональной морали журналиста меняется, поскольку в пору нынешних кардинальных сдвигов работники прессы постоянно оказываются лицом к лицу с множеством прежде не встречавшихся проблем. Известно, что творческий труд вообще не может быть жестко регламентирован. Чем меньше в нем стандартных, повторяющихся моментов, тем большую роль в его регуляции играют гуманистические мотивы и моральные ценности. Эта зависимость усиливается по мере ускорения социально-экономического развития: быстрые перемены всегда несут в себе элемент новизны, а потому исключают автоматизм и требуют от личности самостоятельных нравственных решений.
Принимать такие решения журналисту все чаще и чаще приходится самому, во-первых, из-за стремительных темпов перемен, которые в условиях газетной и тем более радио- и телевизионной оперативности практически не оставляют запаса времени для сторонних согласований. А главное, демократизация общественных отношений, наконец, уже упомянутая отмена цензуры снимают многие бюрократические рогатки на пути его свободного выбора.
Соблазном власть имущих всегда было противопоставить печатному слову запрет. И, несмотря на демократическую направленность Закона о печати и других средствах массовой информации, выбор у журналиста и сейчас бывает ограничен. В нынешнее переходное время старые методы руководства прессой и новые подходы к ней постоянно сталкиваются друг с другом. И по сей день нередки случаи, когда учредитель диктует, кого и за что хвалить, кого ругать, а решение "печатать - не печатать" все еще зависит от личных качеств того или иного руководителя.
Свободному выбору мешают случаи расправы за справедливую критику и препятствия, которые чинят журналисту при получении необходимых для работы сведений. Сковывает и отсутствие четкого определения государственной тайны. Бывает, журналист становится жертвой преследования со стороны тех, кого он покритиковал. Однако судебные дела против зажимщиков критики практически не возбуждаются. Подобные обстоятельства толкают журналистов к примиренчеству, тогда как свободный выбор позиции, напротив, требует от них гражданского мужества.
Свобода слова в нашей стране гарантирована Конституцией, а все остальное лишь сужает эту основополагающую для демократии свободу. Журналистика - основной институт демократии, ее невозможно загонять в рамку конкретного закона. Дополнительные законы налагают и дополнительные ограничения на свободу слова - о национальной безопасности, государственных секретах. В таком случае свобода слова начинает принимать аморфные и искаженные формы. Полуправда и полусвобода приводят к искажению реальной картины состояния общества. Конституция, Гражданский кодекс, налоговое законодательство - вот, по сути, с чем имеет дело пресса повседневно, представляя собой одну из сфер предпринимательства, и этих законодательных актов вполне достаточно для того, чтобы издавать и продавать газеты. Для прессы важен не сам закон, а диалог между журналистами и властью, постоянная отчетность и открытость властных кабинетов не только перед нами, но и перед всеми налогоплательщиками. Журналисты и чиновники должны сотрудничать, сдерживая и уравновешивая друг друга. Только так можно развивать демократию и ражданское общество. А ныне дело дошло до того, что правительство перестало отправлять в редакции свои пресс-релизы, не говоря уже об электронной почте. От народа власть давно дистанцировалась, а теперь она отдаляется и от журналистов. Чиновники привыкли ругать прессу, не замечая, что одновременно они ругают и себя, подчеркивая свою некомпетентность и некультурность. Пресс-службы министерств и ведомств, созданные по требованию главы государства, стали барьером между прессой и чиновниками. Лишь при необходимости власти предпочитают «сливать» нужную им информацию в те издания, которые контролируются ими, чтобы при необходимости можно было быстро опровергнуть этот компромат. В результате одна-две избранные газеты знают все и обо всех лишь благодаря высоким покровителям, которые прячутся от остальных изданий за высокими охраняемыми заборами. В другие же редакции приносят лишь авторские материалы интеллектуалов, на гонорары за которые редакциям к тому же приходится теперь выплачивать установленные правительством дополнительные налоги.
Журналист должен иметь собственную позицию, от которой зависит публикация того или иного материала. И тут возникает вопрос: кто платит журналисту? Если редактор, то журналист таковым и остается, если статья заказана со стороны, то это уже "PR-деятель". Но на практике все намного сложнее: заказать и оплатить статью могут и главному редактору. Тот в свою очередь дает задание журналисту. Правда, последний может обнаружить подвох и отказаться выполнять поручение редактора. Но это чревато санкциями вплоть до увольнения, хотя по закону журналист вправе не выполнять поручение руководства редакции, если это противоречит его личной журналистской и гражданской позиции. Таким образом, независимость СМИ превращается в миф. "Четвертая власть" перестала быть таковой и находится под контролем государства, финансово-промышленных групп, политиков. И роль СМИ как института демократии потеряла всякий смысл.
Российские СМИ переживают кризисное состояние, в результате чего-либо вообще нельзя говорить о СМИ как инструменте демократии, либо говорить именно об инструменте, а не самостоятельном субъекте общественных отношений.
Среди наиболее глубоких и в то же время очевидных причин кризиса в информационной сфере были выделены следующие.
Утрата доверия населения к СМИ и, как следствие, снижение (вплоть до полного исчезновения) реакции аудитории на получаемую информацию.
Монополизация информационного рынка, рассматриваемая как прогрессирующий процесс: на смену господствующей до недавнего времени монополии информационных империй (медиа-холдингов, финансово-промышленных групп, отдельных лиц) приходит государственный информационный монополизм.
Проблемы, связанные с регулированием - как правовым, так и общественным - деятельности наиболее динамично развивающихся участников информационного рынка - электронных СМИ.
Обозначены также возможные пути решения стоящих перед государством, бизнесом и обществом информационно-коммуникативные проблем:
Провести глубокое научное, возможно, социологическое, изучение проблемы и проанализировать тенденции в развитии российских СМИ;
Усилить правовое обеспечение деятельности СМИ: создать полный пакет нормативных актов, регулирующих отношения в информационно-коммуникативной сфере, на основании базового Закона о СМИ от 1991 г.,
Сблизить производителя и потребителя информационного продукта, реализовав тем самым истинное функциональное назначение СМИ - служить читателю, слушателю, зрителю.
Выработать дееспособные механизмы защиты не только журналистской гильдии, но и потребителей информации. Комплексное решение данной проблемы возможно через создание системы специализированных информационных судов.
На днях в Дагомысе завершился двенадцатый фестиваль журналистики, ставший в этом году международным. Более тысячи представителей прессы, экспертов и чиновников на протяжении недели обсуждали проблемы российских СМИ. На форуме обсуждались самые актуальные профессиональные вопросы: станет ли Союз журналистов настоящим профсоюзом, можно ли сохранить и свободу, и зарплату? Есть ли на них ответы, НИ рассказал председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Главной темой фестиваля был поиск формулы доверия между прессой и обществом. Вы нашли эту формулу?
Да. И в этом нам помог наш великий абхазский писатель Фазиль Искандер. Мы взяли эпиграф к лекции, которую он прочитал в Международном университете. Речь идет о совести, о том, что побеждает всегда совестливый. И хотя каждый вынужден заботиться о себе, о благополучии семьи, думать, чтобы выжило его СМИ, но еще есть долг. Ведь наша профессия - особая, от нее зависит здоровье общества и государства.
Как сейчас обстоят дела с этим здоровьем?
Так получилось, и не только у нас, а везде в мире, что доверие к журналистам падает. Чем больше свободы, тем меньше доверия к СМИ, и наоборот. Возник даже такой термин медийный крест, когда свобода журналистики и доверие к ней расходятся в разные стороны.
То есть нужно ликвидировать свободу слова, чтобы вернулось доверие общества?
Все дело в том, как этой свободой пользоваться. Вот у нас время от времени говорят, давайте примем новую хартию, напишем новый этический кодекс. Хотя ничего изобретать не надо. Этический кодекс журналиста в России давно существует, и в любой стране мира он есть. Там написано, чем журналистика отличается от пропаганды, пиара и политтехнологий. И вовсе не нужно поднимать знамя и кричать Даешь хартию! . Вопрос в том, что этический кодекс в современных российских условиях соблюдать очень трудно. Когда у человека плохая зарплата, когда он все время рискует, что работодатель его уволит. Речь идет, в конечном счете, об условиях жизни журналиста.
А свобода СМИ тут при чем?
Свобода означает, что все доступно, что ты все можешь. Но степень этой свободы ты должен определять сам. На фестивале было потрясающее открытие. Это журналист Андрей Дробот. Он проработал в районной газете в Сибири пять или шесть лет и написал книгу Холодный путь к старости. О том, как, работая в газете, можно эту свободу утратить. Он описывает жизнь не какого-то знаменитого журналиста из Москвы, а сотрудника небольшой газеты в регионе. Еще в книге собраны его афоризмы. Например, подпрыгивая, можно достичь вершин, но ненадолго. Или стучать можно и по камню, и по стене, и по голове, но это не значит, что вам откроют.
Так все же свобода прессы тут при чем?
Как при чем? Что вы имеете в виду под свободой прессы? Позволяют вам или не позволяют. Так вы это понимаете? Свобода прессы - это ваша собственная позиция. Насколько журналист способен этим пользоваться, способен на поступок, способен определить, что в профессиональном плане для него самое главное. И этот парень из Сибири, а ему лет тридцать, не больше, сделал просто великое исследование журналистской работы в нынешних условиях. Какие свободы сегодня есть, каких нет.
Может быть, все дело в том, что журналисты не умеют зарабатывать, и поэтому вынуждены продаваться? Продавшись же, им приходится еще что-то делать или не делать. В результате никакой свободы слова у нас нет. Нет того медийного креста, о котором вы сказали. А вот будет свобода - тогда будет и доверие к журналистике.
Вы совершенно правильно рассуждаете. На сто процентов. Но ждать, пока свобода наступит - это, как ждать дождя, после которого грибы вырастут. Так не бывает. У нас совершенно другая ситуация. Вспомним Владимира Короленко, который жил при трех режимах. И при всех режимах оставался благодетелем для общества. Он говорил те вещи, которые не совпадали с позицией власти. И все к нему прислушивались. Здесь главное - сколько ты можешь взять на себя. Я так это понимаю. Свободу при всех условиях определяет для себя сам журналист и сам главный редактор. Даже в советской прессе если главный редактор был личностью, то в издании был высокий уровень свободы, что вызывало доверие у читателей. А как только менялся человек, который этот уровень свободы определял, так она сразу пропадала.
Выходит, что настоящий журналист должен превратиться в этакого миссионера, в святого. И одни будут подрывать доверие к СМИ и наслаждаться жизнью, а другие должны это доверие поддерживать, не получая зарплату, а порой даже получая по голове.
Не только по голове. У нас уже сотни людей жизнь отдали. Как бы ни говорили, что убивают не только журналистов, а и других, и третьих, и пятых, но настоящая журналистика - это подвижничество.
Правильно я понял, что плана по выводу журналистики из кризиса у Союза журналистов нет? Есть только надежда на то, что у журналистов проснется совесть.
Почему нет плана? План у нас есть. Это подъем социального статуса журналиста. Как, предположим, в Германии. Там есть пиарщики, и все знают, что это пиарщики. И есть журналисты, которым общество доверяет, и которые боятся даже близко подойти к пропаганде и пиару. Потому что если журналист испачкается, общество к нему доверие тут же потеряет. Нужно выйти на такой же статус - зарплата, отношения с работодателем. Об этом на фестивале шла речь. И мы к этому придем. Не надо говорить, что мы не знаем, что делать. Мы знаем. Да, не все получается. Журналист в маленькой Финляндии крепко защищен своим Союзом. Потому что там зарплата другая, и он платит взносы по сто-двести долларов в месяц. И если журналиста уволят, Союз будет три года платить ему зарплату и еще моральную компенсацию выплатит.
А наши журналисты насколько защищены?
Да, мы живем в других условиях. У нас из 120 тыс. членов Союза журналистов 100 тыс. получают зарплату в 200-300 долларов. Поэтому здесь объединяться очень трудно. Но создание профсоюза идет, и очень активно.
Однако возникает ощущение, что, несмотря на вашу активность, Союз журналистов отходит на периферию. Звезды к вам не записываются, крупнейшие медиакомпании ваши мероприятия игнорируют. Не получается ли, что организация превращается в союз бедных провинциальных журналистов.
Категорически не согласен. В фестивале участвовали полторы тысячи журналистов, в том числе триста иностранцев. Из тех, кто блистал в этом году, могу назвать Андрея Константинова, Александра Минкина, Альберта Плутника. Это периферия? Были выступления об экономическом развитии регионов, о преодолении демографического кризиса. Борис Боярсков выступал, руководитель Службы по надзору в сфере СМИ. Проходили круглые столы по обучению журналистов, по толерантности, по правовому и экономическому обустройству медийного рынка. Вроде бы медийный рынок - это не наша задача, но все в этом мире связано. Самый яркий пример - это почта, подписка и то бесправное положение, в котором сегодня оказалась пресса. Если в советское время стоимость распространения газеты была не больше 10% ее розничной цены, то сегодня стоимость доставки может быть больше, чем стоимость самого издания. Я считаю, что это такая государственная политика. Потому что легче управлять СМИ, когда они зависят от дотаций и материальной помощи. Вы знаете, какой отдел сейчас стал главным во многих изданиях, даже в самых известных?
Отдел заказных публикаций. Конечно, у нищего человека трудно требовать, чтобы он был высоконравственным и жил по совести. Но это уже не журналистика, а что-то совсем иное. Кстати, одним из событий фестиваля была лекция Ясена Николаевича Засурского с вызывающим названием Вернется ли журналистика в Россию?
Вернется?
Он выражает надежду.