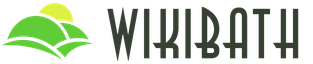Что было 100 000 лет назад. Сто тысяч лет назад, когда мозг только сформировался, мы жили в невероятно враждебном мире
Во времена возникновения нашего вида 300 000 лет назад мозг имел примерно такие же большие размеры, как и сегодня, свидетельствуют новые исследования. Но большой круглый мозг и высокий лоб — считавшийся отличительной чертой человеческой анатомии — уже были сформированы и не менялись в период между 100 000 и 35 000 лет назад, говорит антрополог Симон Нойбауэр и его коллеги.
Используя компьютерную томографию для сканирования древних и современных человеческих черепов и геометрический морфометрический анализ, исследователи создали цифровые реконструкции мозга, основанные на форме внутренней поверхности каждой черепной коробке.
Человеческий мозг постепенно эволюционировал от относительно более плоской и вытянутой формы — как у неандертальцев — до формы глобуса благодаря серии генетических изменений в развитии мозга на ранней стадии жизни, — предполагают исследователи 24 января в Science Advances.
Постепенный переход к круглой форме мозга, возможно, стимулировал значительную нейронную реорганизацию примерно 50 000 лет назад. Эта когнитивная переработка могла бы послужить расцвету произведений искусства и других форм символического поведения среди людей каменного века, подозревает команда ученых. Однако другие исследователи утверждают, что абстрактное и символическое мышление процветали еще до появления Homo sapiens.
Исследования древней показывает, что гены, участвующие в развитии мозга, изменились у Homo sapiens после откола от неандертальцев более 600 000 лет назад. «Эти генетические изменения могут быть причиной различий в нервной системе и мозговом росте, которые привели к округлению формы мозга у современных людей, но не у неандертальцев», — говорит Симон Нойбауэр из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге, Германия.
Видео показывает предсказанные изменения формы мозга древних людей примерно за 250 000 лет. Общий размер мозга остается постоянным, так как изменения размера черепа (показаны в разных оттенках зеленого) — создают более округлую форму. Изображение: S. NEUBAUER, MPI EVA LEIPZIG (CC-BY-SA 4.0)
Тем не менее, нехватка ископаемых означает, что ученые должны полагаться на данные о черепной коробке. Но эти данные непосредственно не измеряют форму мозга, что затрудняет распутывание того, насколько быстро или медленно мозг человека стал таким же круглым, как сегодня, говорит палеоантрополог Кристоф Золликофер из Цюрихского университета. В целом, однако, лица Homo sapiens со временем уменьшились, изменение черепа, которое как утверждает Zollikofer, критически повлияло на эволюцию округлых мозговых оболочек, описанных в новом отчете.
Команда Нойбауэра изучила 20 древних черепов H. sapiens. Три самых старых экземпляра включали в себя две марокканские находки, датируемые примерно 315 000 лет назад, которые могут быть самыми ранними из известных H. sapiens. Вторая группа из четырех черепов насчитывает от 120 000 до 115 000 лет назад. Ориентировочный возраст для оставшихся 13 черепов колеблется от 36 000 до 8 000 лет.
Сравнение черепов 89 современных людей, восьми неандертальцев, датируемых между 75.000-40.000 лет назад, и 10 членов других древних видов Homo, датируемых между 1,78 миллиона и 200 000 лет назад, выявило прогрессирующее округление мозгов только в образце древних Homo sapiens.
Нойбауэр считает маловероятным, что постепенная эволюция лиц с одинаковой общей формой черепа изменяет формы мозговой оболочки. Он говорит, что самые старые известные черепа Homo sapiens, которые его команда считает двумя марокканскими находками, имеют лица, подобные современным людям.
Американские биологи, похоже, выяснили, почему 100-74 тысячи лет тому назад человечество прошло сквозь "бутылочное горлышко" — его численность резко сократилась. Виноваты в этом были бактериальные инфекции, убивающие людей еще во младенчестве. Нашим предкам удалось справиться с ними, лишь потеряв два гена, которые вели "предательскую" деятельность.
Не исключено, что влияние бактерий и вирусов на эволюцию млекопитающих и, в частности, человека тоже значительно. По крайней мере, как считают ученые, они когда-то помогли нам преодолеть так называемое "бутылочное горлышко". Напомню, что так называют ситуацию, при которой по самым разным причинам резко снижается численность популяции и, соответственно, ее генетического разнообразия. Считается, что подобное произошло с людьми около 100-74 тысяч лет тому назад.

Тогда, по оценкам антропологов, численность человеческой популяции, которая уже приближалась к миллиону, вдруг резко сократилась до 10-20 тысяч особей. И, что самое интересное, параллельно вымерли практически все остальные представители рода Homo , кроме неандертальцев, и, возможно, денисовцев. До сих пор не совсем понятно, почему это вдруг произошло, хотя версий было много. Самыми популярными из них являются вымирание крупных копытных, на которых люди охотились, а также последствия извержения супервулкана Тоба на острове Суматра.
Последняя версия, несмотря на то что ее часто излагают на страницах научно-популярных книг, является самой слабо аргументированной. Да, конечно, извержение, случившееся 77,5 тысячи лет тому назад, было мощным — одного пепла вулкан выбросил 800 кубических километров. Тем не менее, антропологи находили следы человеческих стоянок на территории Восточной и Южной Азии и после этого события. То есть даже жившие рядом с вулканом люди вымерли не сразу. А кроме того, сокращение численности рода людского не было резким — оно началось примерно 100 тысяч лет тому назад, то есть задолго до самого извержения. Так что оно могло лишь ускорить вымирание многих человеческих групп, но явно не являлось его причиной.
Что касается гипотезы о том, что эффект "бутылочного горлышка" был связан с вымиранием крупных копытных, на которых охотились люди, то здесь тоже наблюдается некое временное несоответствие. Известно, что за четвертичный период происходило несколько таких вымираний, однако не одно из них не приходилось на указанное время. Да и к тому же, во время предыдущих вымираний крупных копытных никакого сокращения численности людей не наблюдалось — а по идее, должно было, если эти два процесса связаны между собой. Кроме того, данные антропологов показывают, что 100 тысяч лет назад люди все-таки в основном охотились на мелких животных, а нена крупных.

Так почему же численность людей в те далекие времена так сильно сократилась? Биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) считают, что причиной этому были эпидемии, вызванные бактериальными инфекциями. Однако, по их данным, уже через несколько десятков тысяч лет люди смогли победить эти болезни — из-за того, что геном наших предков избавился от двух генов-"предателей", которые сотрудничали с вредными микроорганизмами.
Исследователей заинтересовали два иммунных гена — Siglec-13 и Siglec-17. Эти последовательности ДНК помогают иммунитету решить, какие иммунные клетки нужно отправить на борьбу с возбудителем заболевания. Известно, что оба этих гена активны у шимпанзе и горилл, однако у людей они не работают, поскольку Siglec-17 "выключен" в результате мутации, а его коллега под номером 13 вообще вырезан из генома.
После того как ученые синтезировали белки, кодируемые этими генами, они обнаружили интересную вещь — оба белка мешали антителам связываться с антигенами на мембранах стрептококков группы Б (Streptococcus ) и кишечной палочкой К1 (Escherichia coli ). Получается, что если данные белки будут присутствовать в иммунных клетках, то те перестанут распознавать данных бактерий как потенциальную угрозу для организма. А это приводило к катастрофическим последствиям. Дело в том, что вышеупомянутые стрептококки Б и кишечная палочка К1 являются агрессивными микробами, весьма опасными для новорожденных. После попадания их в организм ребенок чаще всего умирает, и спасти его могут лишь современные лекарства, которых 100 тысяч лет назад еще не придумали.
Итак, получается, где-то 400 тысяч лет тому назад представители рода Homo впервые "познакомились" с данными болезнями. (Возможно, это было связано с изменением рациона или среды обитания.) В результате началось резкое снижение численности популяции наших предков, поскольку большая часть их просто погибала во младенчестве. Однако естественный отбор тоже не дремал — согласно данным генетического анализа "предательские" гены Siglec-13 и Siglec-17 начали выключаться в промежутке от 400 до 270 тысяч лет назад, то есть еще до того, как современный человек откололся от ветвей неандертальцев и денисовцев.
Таким образом где-то 270-265 тысяч лет тому назад сформировалась некая популяция, которая состояла из особей, лишенных этих молекулярных "предателей". Тем не менее, инфекция тоже не дремала. Поскольку люди распространялись за пределы Африки, то она путешествовала вместе с ними. В итоге численность всех групп, кроме той, что не имела опасные для здоровья гены, неуклонно снижалась. Наиболее же интенсивное вымирание произошло как раз 100-74 тысяч лет тому назад. Кстати, вполне возможно, что его подстегнуло именно извержение Тоба или сокращение численности животных, которыми люди питались, ведь в стрессовой ситуации любая болезнь становится более опасной.
Тем не менее, даже для той популяции, члены которой заранее избавились от вредных генов, требовалось время для того, чтобы это изменение стало общей нормой. Поэтому не удивительно, что последние следы работы гена Siglec-17 встречаются у некоторых людей. Однако сейчас на планете таковых не имеется. Если вдруг и произойдет обратная мутация, которая "включит" данный участок ДНК при развитии ребенка, то он не доживет и до года.
К середине среднего голоцена широколиственные породы на территории Подмосковья достигли своего максимального распространения и обилия. Это было время голоценового «климатического оптимума». Климат характеризовался не только более высокой температурой, но и большей влажностью.
М. И. Нейштадт
Палеоклиматология в последние десятилетия получила могучие средства исследования - споровопыльцевой анализ и радиоуглеродный метод датировки. Первый позволяет надежно определять состав и экологические условия растительных сообществ минувших эпох, второй с достаточной точностью - датировать в абсолютном исчислении время этих эпох.
Применение новых средств исследований в послойном изучении континентальных отложений последних 20 000 лет открыло необычайно широкий и яркий спектр климатических изменений. Результаты этих исследований особенно ценны, так как они касаются времени, максимально близкого к нашему.
Рассмотрим изменения климата по следующим важнейшим этапам.
20 000 лет назад в Северном полушарии было сосредоточено 67% площади континентальных ледников земного шара. В наши дни - всего 16% (табл. 1). В то время европейский ледниковый покров занимал всю Скандинавию, Финляндию, Балтийское море, включая пролив Скагеррак. Его южный край перекрывал территорию Берлина, Плоцка (Польша) и близко подходил к Орше, Смоленску, Ржеву, Рыбинскому водохранилищу. Еще более обширным был Северо-Американский ледник. Он покрывал всю северную часть континента. Его южный край приближался почти вплотную к территории городов Цинциннати, Питтсбурга и Нью-Йорка.
За истекшие 20 000 лет площадь всех континентальных ледников в Северном полушарии сократилась на 24,5 млн. км 2 , т. е. на 91%. Из оставшихся 2,3 млн. км 2 лишь один Гренландский ледник занимает почти 1,8 млн. км 2 .
Современный объем континентальных льдов оценивается от 24-27 млн. км 3 . Если бы они полностью растаяли, уровень Мирового океана мог бы подняться по формальным расчетам на 65-70 м. Объем континентальных льдов в период максимума оледенения возрастал на 16 млн. км 3 , что понизило уровень океана на 45 м. Так как масса ледника Антарктиды реагирует на изменения климата крайне медленно (см. табл. 1), то мы вправе считать, что прирост льда шел главным образом на формирование континентальных ледников в Северном полушарии. В соответствии с этим средняя мощность ледяного покрова составляла 650 м. Максимальная мощность была примерно та же и в тех же областях, что и в период днепровского оледенения. На периферии мощность уменьшалась до нескольких десятков метров, а то и просто сходила на нет.
В центральной области оледенения температура льда, как показывают наши расчеты, была примерно -10° С, т. е. намного выше температуры льда Гренландии, которая равна -28°, а тем более Антарктиды с ее -50, -60°.
Столь высокая температура льда Центральной области имела существенное значение. Он как более теплый, естественно, реагировал на потепления и похолодания быстрее, чем ледяные щиты Гренландии и Антарктиды.
Понижение уровня Мирового океана на 45 м вследствие увеличения материковых льдов вызвало осушение значительной части континентальных шельфов. Проливы Беринга, Чирикова, Шпанберга становились столь мелководными, что водообмен Полярного бассейна с Тихим океаном практически прекращался, а с ним прекращалась морская адвекция тепла из Тихого океана в Арктический бассейн.
18 000 лет назад началось потепление и связанное с ним отступание ледниковых покровов. Отступание не было монотонным. Оно прерывалось остановками в периоды спада потепления и надвигами на ранее освобожденные территории при похолодании (рис. 6).

Каковы же причины столь глубоких и относительно быстрых перемен в континентальных ледниковых покровах? Оказывается, достаточно незначительных, но устойчивых изменений в тепловом балансе поверхностного слоя океана, чтобы существенно повлиять на природные процессы. Это хорошо видно на — примере с морскими льдами. Английский климатолог Ч. Брукс считает, что повышение температуры на поверхности Земли всего лишь на 1 ° С оказалось бы достаточным, чтобы привести весь ледяной покров Полярного бассейна в неустойчивое состояние.
Тепловые процессы особенно эффективны на границе таяния и замерзания воды. Фазовые преобразования (вода, снег, лед) в пределах одного градуса сопровождаются крупными изменениями в поглощении солнечной радиации морской поверхностью.
Подсчитано, что в результате уничтожения морских льдов на единице площади Полярного бассейна тепла солнечной радиации поглощается в восемь раз больше, чем это требуется для уменьшения мощности материковых льдов со скоростью 0,5 м в год.
За последние 18 000 лет особенно значительным было потепление в среднем голоцене. Оно охватывало время с 9000 до 2500 лет назад с кульминацией в период 6000- 4000 лет назад, т. е. тогда, когда в Египте уже возводились первые пирамиды. Следует заметить, что время восходящей ветви потепления датируется по-разному: по Гроссу до 7500 лет назад, после чего началась фаза кульминации, продолжавшаяся до 4500 лет назад, а по данным М. А. Лавровой - до G000 лет назад, вслед за чем следовала фаза наиболее пышного расцвета морской жизни, продолжавшаяся до 4000 лет назад (рис. 7).

Наиболее волнующие вопросы рассматриваемого этапа - был ли Арктический бассейн безледным в период кульминации оптимума и какова была в связи с этим реакция климатических условий на континентах.
Многие ученые считают, что в период климатического оптимума Арктический бассейн был свободен от льда. Ч. Брукс свое утверждение о безледности Арктического бассейна обосновывает тем, что на Шпицбергене отсутствовали льды, была относительно богатая флора и обитали тепловодные моллюски, а также тем, что температура открытого Арктического бассейна и его побережий была выше современной. Повышение же температуры поверхностных вод и приземного слоя воздуха на 2-2,5° (что вполне достаточно для полной ликвидации дрейфующих льдов Полярного бассейна) хорошо доказано рядом независимых друг от друга исследований, проведенных по разной методике.
Вечная мерзлота на континентах, циркумполярно охватывающая Арктический бассейн, в период его потепления сильно деградировала. Так, на севере и северо-западе Сибири глубина протаивания достигала 200-300 м. Горные ледники значительно сокращались, а в ряде мест и вовсе исчезали.
Как же отреагировал климат на исчезновение льдов в Арктическом бассейне?
Растительные зоны циркумполярно продвинулись в сторону полюса. На евразийском континенте смещение достигало 4-5° широты на западе и 1-2° на востоке. Отдельные растительные полосы передвинули свои северные границы на 1000 км. Леса вплотную подходили к побережью Баренцевого моря, причем дуб, липа, орешник добрались до берегов Белого моря. Имеются данные, позволяющие считать, что на европейском материке зона тундр и лесотундр исчезала полностью. В северной части Азии остатки древесной растительности были обнаружены всего в 80 км от мыса Челюскин, на Новой Земле найдены торфяники. На Украине в условиях благоприятного, более влажного, чем теперь, климата впервые развивалось земледелие. Установлено, что Среднее Приднепровье сплошь покрылось лесом. Леса по долинам рек спускались до Черного, Азовского и Каспийского морей, причем на пространстве от Саратова до низовий Поволжья довольно густо распространились широколиственные породы. О благоприятных климатических условиях говорит также наличие у трипольских и нижнедунайских племен всех известных ныне основных зерновых культур, крупного и мелкого рогатого скота.
Ряд зарубежных исследователей - У. Фицджеральд, О. Бернар, Ф. Моретт, Р. Капо-Рей, Р. В. Фейербридж и др. - единодушно отмечают, что на гидрографии и растительности Сахары лежат явные отпечатки непостоянства климата. Везде видны безжизненные вади, высохшие озера, где, очевидно, совсем недавно была вода. Поразительный контраст между руинами поселений в Северной Африке и голым пейзажем, окружающим их ныне, говорит о недавней смене увлажнения.
Интересен тот факт, что в кайнозое наибольшей аридности и наибольшего распространения Сахара достигла именно в четвертичное время - в период наибольшего охлаждения нашей планеты, в том числе северных полярных широт.
Даже в позднеледниковое время, вследствие преобладания северо-восточных ветров, верховья Нила получали мало воды с Абиссинского плато. Нил не достигал Средиземного моря, как в наши дни река Эмба не достигает Каспия в засушливые сезоны. «Нынешний гидрографический режим Северо-Восточной Африки, - утверждает Фицджеральд, - возник не ранее конца последнего оледенения Северной Европы, вероятно, около 12 000 лет до н. э.», т. е. не ранее исчезновения основных масс льда в северо-западной части Европы, падения ледовитости в Северном Ледовитом океане и повышения температуры поверхностных вод Северной Атлантики.
В период V-III тыс. до н. э. в различных пунктах Сахары, Аравийских и Нубийских пустынь отмечался значительно более влажный климат. Более широким было распространение человека и животных. Слон, гиппопотам и носорог исчезли в Сахаре в конце третьего тысячелетия до н. э. Дальнейшее иссушение Сахары повлекло за собой уход из нее кочевых племен.
Известный полярник В. Ю. Визе установил связь между снижением ледовитости Арктики и ростом уровня озер Африки, в том числе и озера Виктория, истока Нила. Связь настолько устойчива, что позволила автору сделать весьма любопытный вывод - человек, следящий за уровнем озер, может судить о состоянии льдов в Арктических морях.
Отсутствие льдов в Арктическом бассейне в период кульминации среднеголоценового оптимума благоприятно сказалось на климате всей планеты. По всей Европе, от Пиренейского полуострова до Волги, как уже отмечалось, преобладала лесная теплолюбивая растительность. Люди занимались рыболовством и охотой, развивалось мотыжное земледелие. В горах граница леса лежала выше, чем теперь. «Надо подчеркнуть, - писал К. К. Марков, - что после окончания ледникового времени в Средней и Северной Азии нет признаков систематического усыхания климата. После исчезновения последнего ледникового покрова на Русской равнине климат становится в общем более влажным» 1 . «Состояние растительности Средней Азии, - отмечал в свою очередь Е. П. Коровин, - в ближайшую после оледенения эпоху характеризуется прогрессивным развитием растительных формаций мезофильного склада. В связи с отступанием ледников, общим потеплением и увлажнением горного климата в пределы Средней Азии открылся доступ бореальной флоры, сложившейся в средних широтах Сибири вскоре после освобождения ее от покровного оледенения».
На территории Внутренней Аляски и Юкона абсолютный возраст отложений торфа определяется 5 000 лет. На северо-западе Канады 64° 19′ северной широты и 102° 04′ западной долготы обнаружен роголистник в отложениях, возраст которых - 5400 лет. Северный предел современного распространения роголистника достигает лишь 59° 14′ северной широты. На восточном склоне Скалистых гор Колорадо возраст торфа, залегающего на отложениях последнего оледенения, 6170 + 240 лет. В бассейне озера Мичиган 3000 лет назад климат был теплее и влажнее, чем в настоящее время.
В районе озер Сан-Рафаэль (Южное Чили) климатические изменения позднего плейстоцена хронологически совпадают с колебаниями климата, установленными в других областях Южного полушария (Огненная Земля, Патагония, Тристан-да-Кунья, Новая Зеландия, Гавайские острова). В Андах (39° южной широты) климат межледниковья был влажнее современного; основные волны климатических изменений синхронны в обоих полушариях. Сухие периоды Огненной Земли и Патагонии синхронны бореальному, суббореальному и современному периодам Европы. В Австралии и Новой Зеландии население занималось земледелием. Южно-Африканская пустыня Калахари 6000-7000 лет назад отличалась более влажным климатом, чем в наше время.
Угасание кульминации климатического оптимума среднего голоцена началось 4000 лет назад. Примерно 3000 лет назад началось восстановление ледяного покрова Арктического бассейна.
Время 2500 лет назад является по схеме расчленения голоцена М. И. Нейштадта рубежом между средним и поздним голоценом. С этого времени фиксируется более интенсивное похолодание. Однако, спустя примерно тысячу лет, несколько позднее 500 г. н. э. началось новое потепление и, как установил Брукс, «Арктические льды вступили в стадию полуустойчивого существования». Эта стадия господствовала примерно до 1200 г. Полуустойчивость же арктических льдов Брукс характеризует как состояние, когда они полностью исчезают летом и восстанавливаются зимой в незначительном объеме.
В таком состоянии площадь морских дрейфующих льдов Южного полушария в холодное время года достигает 22 млн. км 2 , в феврале она сокращается до 4-6 млн. км 2 , т. е. на 80%. В Северном Ледовитом океане общая площадь дрейфующих льдов зимой достигает 11 млн. км 2 , а летом к концу таяния она может снижаться до 7 млн. км 2 , т. е. на одну треть. Если же в баланс дрейфующих льдов Северного полушария включить полностью исчезающие летом льды Берингова и Охотского морей и объем льда, стаивающего с ледяного покрова Северного Ледовитого океана примерно на 20%, то можно убедиться, что объем морских льдов в северных широтах к концу лета вдвое меньше, чем в конце зимы.
По более поздним данным В. С. Назарова, ежегодное нарастание и таяние морских льдов в целом на земном шаре составляет 37 000 км 3 при ежегодном переходящем остатке 19 500 км 3 . Иначе говоря, ежегодно 67% морских льдов на нашей планете обновляются. Следовательно, если морские льды неустойчивы в настоящее время, то они тем более неустойчивы были в раннем средневековье, когда летние температуры на 1-2° превышали современные.
Л. Кох исследовал динамику ледовитости Северной Атлантики на протяжении последнего тесячелетия. Результаты исследований представлены на рис. 8. Малая ледовитость высоких широт снижала силу штормов и число штормовых дней. Астурийские рыбаки того времени могли заниматься там китобойным промыслом.

Снизилась ледовитость и в антарктических полярных широтах. Еще в середине VII в. н. э. полинезийцы, в частности Ви-Те-Ренгина, плавали в антарктических водах, несмотря на примитивность корабельной и навигационной техники того времени. Вместе с тем в годы плавания Дж. Кука (1772-1775) ледовитость, судя по его описанию и его спутников, существенно превышала современную.
В районе Исландии и Южной Гренландии с 900 по 1200 г. климат был мягче; морских льдов в этих районах не наблюдалось. На юго-западе Гренландии существовали скандинавские колонии с поразительно высоким уровнем скотоводства. При раскопках кладбища близ мыса Фаруэл, расположенного в современной зоне вечной мерзлоты, археологи установили, что в то время, когда производили захоронения, мерзлота летом должна была оттаивать, поскольку гробы, саваны и даже трупы пронизывались, корнями растений. В более ранний период грунт должен был оттаивать на значительную глубину, поскольку при самых древних захоронениях гробы опускались сравнительно глубоко. В дальнейшем эти горизонты оказались в зоне вечной мерзлоты, и более поздние погребения располагались все ближе и ближе к поверхности.
В Альпах ледники сильно сокращались. По данным итальянских ученых, с VIII до XIII в. климат более благоприятствовал земледелию, чем с XIII до середины XVI в., когда засухи повторялись чаще. Это относится и к нашему лесостепному югу, где в IX-X вв. крупные цветущие города, пашенное земледелие с плугом «рало», почти все известные нам виды домашнего скота свидетельствуют о высоком уровне развития Киевской Руси.
На территории современной Татарской АССР в X в. Ибн-Фадлан наблюдал у болгар, занимавших эту территорию, развитое земледелие с возделыванием пшеницы. Возделывали пшеницу и другие народы, входившие в состав Волжской Болгарии. Это подтверждают и русские летописи. С другой стороны, точно известно, что с XIV по XIX в. пшеницу на этой территории не сеяли из-за суровости климата.
Большое количество исторических и археологических свидетельств показывает, что в Средней АЗИИ В VIII- XII вв. увлажнение было достаточным, чтобы занять поливной земледельческой культурой почти все междуречье Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи. По словам арабских историков, кошка могла пробежать от Самарканда до Аральского моря по крышам домов. Не только пустыни Средней Азии, но даже величайшая на Земле пустыня Сахара реагировала на уменьшение ледовитости в Арктическом бассейне некоторым снижением своей аридности.
С XIII в. н. э. вновь возникает похолодание. Наиболее полно оно проявилось в период 1550-1850 гг. В это трехсотлетие более частыми становятся суровые зимы. Разрослись горные ледники Скандинавии, Альп, Исландии, Аляски. В ряде районов они перекрыли поселения и культурные земли. По данным П. А. Шуйского, в XVIII- XIX вв. продвижение ледников местами достигало «максимальных размеров со времени последней ледниковой эпохи…»
Паковый лед, поступающий в Гренландское и Норвежское моря из Арктического бассейна, таял более медленно, что сказалось на ледяной блокаде Гренландии. Гренландские колонии, основанные в X в. и процветавшие до блокады, начали терять связь с метрополией, приходить в упадок и в середине XIV в. прекратили свое существование.
Несмотря на некоторые периоды потепления и связанного с этим отступания ледников, в целом рассматриваемый период был настолько холодным, что получил наименование «Малой ледниковой эпохи». Высокие широты были выхоложены, ледовитость полярных морей возросла. В Северной Атлантике морские льды достигали за послеледниковое время своего наибольшего развития, например в годы с 1806 до 1812 кораблям редко удавалось проникнуть выше 75° северной широты.
Радиоуглеродные исследования растительных остатков, взятых из-под 47-метровой толщи льда в северо-западной Гренландии, показали, что, меньше чем 200 лет тому назад, ледники этого района продолжали энергично наступать. В кульминацию похолодания снеговая граница снижалась до уровня моря, что, естественно, создавало благоприятные условия для возрождения ледниковых покровов, исчезнувших в предшествующий теплый период.
Во времена дрейфа «Фрама» условия для образования более сплоченного и более мощного ледяного покрова были благоприятнее, чем сейчас. Исследователи Арктики в прошлом часто сообщали о мощных 4-6-метровых «палеокристаллических» дрейфующих льдах. В наши дни встреча с такими льдами - явление редкое, так как они - продукт более холодного климата.
Высокая ледовитость Полярного бассейна всегда порождала беспокойный режим атмосферы. Его прямым следствием были неурожайные голодные годы, частота которых заметно увеличивалась.
По всей вероятности, не последнюю роль в большой продолжительности жизни обитателей палеогенового периода играл и свет. Он мог воздействовать на них двояко. Во-первых, на находящихся тогда в полярных областях Земли континентах
Гиперборее
(и ,
) и
Антарктид
е совсем не было ночей. А как показали опыты по
, клетки способны заметно ослаблять и полностью устранять повреждающий эффект ультрафиолетового облучения ДНК при их выращивании на свету.
Во-вторых, в рассматриваемый отрезок истории Земли должно было преобладать рассеянное излучение со смещением спектрального состава света в голубую и синюю область спектра. Скорее всего, это тоже как-то влияло на характер протекания физиологических процессов в организме.
Таким образом, и климат палеогенового периода могли оказывать существенное влияние на продолжительность жизни обитателей «золотого века». Но они, по-видимому, не были единственными факторами долголетия.
После эоцен-олигоценовой катастрофы (34 млн. лет назад) климат на Земле стал более контрастным с холодными зимами и существованием на севере и юге полярных шапок. Тем не менее, обитатели следующих эпох (олигоценовой и, вероятно, миоценовой) тоже жили очень долго – гораздо дольше современных людей (десятки, а возможно и сотни тысяч лет).
На продолжительность жизни в палеогене могла оказывать влияние меньшая сила тяжести. Хотя вряд ли ее роль была такой уж большой. Дело в том, что в полярных областях Земли сила тяжести не намного отличалась от современной, а обитатели расположенных там континентов (белые боги
), по преданиям, были долгожителями или бессмертными.
Большая продолжительность жизни обитателей «золотого века» могла быть как-то связана и с более медленным вращением Земли вокруг Солнца (или ее более далеким расположением от Солнца), так как солнечный год в ведийском календаре включал в себя 28 лет.
Однако, гораздо большее влияние на продолжительность жизни, по-видимому, оказывала высокая скорость собственного вращения Земли в палеогеновый период. Скорее всего, именно на этом была основана ведийская система летоисчисления,
(Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга), каждой из которой была свойственна своя индивидуальная продолжительность жизни (сто тысяч, десять тысяч, тысячу и сто лет).
За последние 34 миллиона лет наша планета прошла через череду глобальных катастроф, изменивших ее до неузнаваемости, и скорость ее вращения неоднократно менялась . Но это уже тема отдельного разговора, который я веду в других статьях.
Раздел "Долголетие и бессмертие "
Предлагаю обсудить данный материал на , в том числе в темах " " и " "
© А.В. Колтыпин, 2010
Я, автор этой работы А.В. Колтыпин, разрешаю использовать ее для любых незапрещенных действующим законодательством целей при условии указания моего авторства и гиперссылки на сайт
или
Одна из кривых, показывающая колебание уровня моря за последние 18 000 лет (так называемая эвстатическая кривая). В 12 тысячелетии до н.э. уровень моря был примерно на 65 м ниже нынешнего, а в 8 тысячелетии до н.э. – уже на неполных 40 м. Подъем уровня происходил быстро, но неравномерно. (По Н. Мёрнеру, 1969)
Резкое падение уровня океана было связано с широким развитием материкового оледенения, когда огромные массы воды оказались изъятыми из океана и сконцентрировались в виде льда в высоких широтах планеты. Отсюда ледники медленно расползались в направлении средних широт в северном полушарии по суше, в южном - по морю в форме ледовых полей, перекрывавших шельф Антарктиды.
Известно, что в плейстоцене, продолжительность которого исчисляется в 1 млн лет, выделяются три фазы оледенения, называемые в Европе миндельской, рисской и вюрмской. Каждая из них длилась от 40-50 тыс. до 100-200 тыс. лет. Они были разделены межледниковыми эпохами, когда климат на Земле заметно теплел, приближаясь к современному. В отдельные эпизоды он становился даже на 2-3° теплее, что приводило к быстрому таянию льдов и освобождению от них огромных пространств на суше и в океане. Подобные резкие изменения климата сопровождались не менее резкими колебаниями уровня океана. В эпохи максимального оледенения он понижался, как уже говорилось, на 90-110 м, а в межледниковья повышался до отметки +10… 4- 20 м к нынешнему.
Плейстоцен - не единственный период, на протяжении которого происходили значительные колебания уровня океана. По существу, ими отмечены почти все геологические эпохи в истории Земли. Уровень океана был одним из самых нестабильных геологических факторов. Причем об этом было известно довольно давно. Ведь представления о трансгрессиях и регрессиях моря разработаны еще в XIX в. Да и как могло быть иначе, если во многих разрезах осадочных пород на платформах и в горно-складчатых областях явно континентальные осадки сменяются морскими и наоборот. О трансгрессии моря судили по появлению остатков морских организмов в породах, а о регрессии - по их исчезновению или появлению углей, солей или красноцветов. Изучая состав фаунистических и флористических комплексов, определяли (и определяют до сих пор), откуда приходило море. Обилие теплолюбивых форм указывало на вторжение вод из низких широт, преобладание бореальных организмов говорило о трансгрессии из высоких широт.
В истории каждого конкретного региона выделялся свой ряд трансгрессий и регрессий моря, так как считалось, что они обусловлены местными тектоническими событиями: вторжение морских вод связывали с опусканиями земной коры, их уход - с ее воздыманием. В применении к платформенным областям континентов на этом основании была даже создана теория колебательных движений: кратоны то опускались, то воздымались в соответствии с каким-то таинственным внутренним механизмом. Причем каждый кратон подчинялся собственному ритму колебательных движений.
Постепенно выяснилось, что трансгрессии и регрессии во многих случаях проявлялись практически одновременно в разных геологических регионах Земли. Однако неточности в палеонтологических датировках тех или иных групп слоев не позволяли ученым прийти к выводу о глобальном характере большинства этих явлений. Это неожиданное для многих геологов заключение было сделано американскими геофизиками П. Вейлом, Р. Митчемом и С. Томпсоном , изучавшими сейсмические разрезы осадочного чехла в пределах континентальных окраин. Сопоставление разрезов из разных регионов, зачастую весьма удаленных один от другого, помогло выявить приуроченность многих несогласий, перерывов, аккумулятивных или эрозионных форм к нескольким временным диапазонам в мезозое и кайнозое. По мысли этих исследователей, они отражали глобальный характер колебаний уровня океана. Кривая таких изменений, построенная П. Вейлом и др., позволяет не только выделить эпохи высокого или низкого его стояния, но и оценить, конечно в первом приближении, их масштабы. Собственно говоря, в этой кривой обобщен опыт работы геологов многих поколений. Действительно, о позднеюрской и позднемеловой трансгрессиях моря или о его отступании на рубеже юры и мела, в олигоцене, позднем миоцене можно узнать из любого учебника по исторической геологии. Новым явилось, пожалуй, то, что теперь эти явления связывались с изменениями уровня океанских вод.
Удивительными оказались масштабы этих изменений. Так, самая значительная морская трансгрессия, затопившая в сеноманское и туронское время большую часть континентов, была, как полагают, обусловлена подъемом уровня океанских вод более чем на 200-300 м выше современного. С самой же значительной регрессией, происшедшей в среднем олигоцене, связано падение этого уровня на 150-180 м ниже современного. Таким образом, суммарная амплитуда таких колебаний составляла в мезозое и кайнозое почти 400-500 м! Чем же были вызваны столь грандиозные колебания? На оледенения их не спишешь, так как на протяжении позднего мезозоя и первой половины кайнозоя климат на нашей планете был исключительно теплым. Впрочем, среднеолигоценовый минимум многие исследователи все же связывают с начавшимся резким похолоданием в высоких широтах и с развитием ледникового панциря Антарктиды. Однако одного этого, пожалуй, было недостаточно для снижения уровня океана сразу на 150 м.
Причиной подобных изменений явились тектонические перестройки, повлекшие за собой глобальное перераспределение водных масс в океане. Сейчас можно предложить лишь более или менее правдоподобные версии для объяснения колебаний его уровня в мезозое и раннем кайнозое. Так, анализируя важнейшие тектонические события, происшедшие на рубеже средней и поздней юры; а также раннего и позднего мела (с которыми связан длительный подъем уровня вод), мы обнаруживаем, что именно эти интервалы были отмечены раскрытием крупных океанических впадин. В поздней юре зародился и быстро расширялся западный рукав океана, Тетис (район Мексиканского залива и Центральной Атлантики), а конец раннемеловой и большая часть позднемеловой эпох ознаменовались раскрытием южной части Атлантики и многих впадин Индийского океана.
Как же заложение и спрединг дна в молодых океанических впадинах могли повлиять на положение уровня вод в океане? Дело в том, что глубина дна в них на первых этапах развития весьма незначительна, не более 1,5-2 тыс. м. Расширение же их площади происходит за счет соответствующего сокращения площади древних океанических водоемов, для которых характерна глубина 5-6 тыс. м, причем в зоне Беньофа поглощаются участки ложа глубоководных абиссальных котловин. Вытесняемая из исчезающих древних котловин вода поднимает общий уровень океана, что фиксируется в наземных разрезах континентов как трансгрессия моря.
Таким образом, распад континентальных мегаблоков должен сопровождаться постепенным повышением уровня океана. Именно это и происходило в мезозое, на протяжении которого уровень поднялся на 200-300 м, а может быть, и более, хотя этот подъем и прерывался эпохами краткосрочных регрессий.
С течением времени дно молодых океанов в процессе остывания новой коры и увеличения ее площади (закон Слейтера-Сорохтина) становилось все более глубоким. Поэтому последующее их раскрытие влияло уже гораздо меньше на положение уровня океанских вод. Однако оно неминуемо должно было привести к сокращению площади древних океанов и даже к полному исчезновению некоторых из них с лица Земли. В геологии это явление получило название «захлопывание» океанов. Оно реализуется в процессе сближения материков и их последующего столкновения. Казалось бы, захлопывание океанических впадин должно вызвать новый подъём уровня вод. На самом же деле происходит обратное. Дело здесь в мощной тектонической активизации, которая охватывает сходящиеся континенты. Горообразовательные процессы в полосе их столкновения сопровождаются общим воздыманием поверхности. В краевых же частях континентов тектоническая активизация проявляется в обрушении блоков шельфа и склона и в их опускании до уровня континентального подножия. По-видимому, эти опускания охватывают и прилегающие участки ложа океанов, в результате чего оно становится значительно более глубоким. Общий уровень океанских вод опускается.
Так как тектоническая активизация - событие одноактное и охватывает небольшой отрезок времени, то и падение уровня происходит значительно быстрее, чем его повышение при спрединге молодой океанической коры. Именно этим можно объяснить тот факт, что трансгрессии моря на континенте развиваются относительно медленно, тогда как регрессии наступают обычно резко.
Карта возможного затопления территории Евразии при различных величинах вероятного подъема уровня океана. Масштабы бедствия (при ожидаемом в течении XXI века повышении уровня моря на 1 м) будут гораздо меньше заметны на карте и почти не скажутся на жизни большинства государств. В увеличении даны районы побережий Северного и Балтийского морей и южного Китая. (Карту можно увеличить!)
А теперь давайте рассмотрим вопрос СРЕДНЕГО УРОВНЯ МОРЯ.
Геодезисты, производящие нивелировку на суше, определяют высоту над «средним уровнем моря». Океанографы, изучающие колебания уровня моря, сравнивают их с отметками на берегу. Но, увы, уровень моря даже «средний многолетний» — величина далеко не постоянная и к тому же не везде одинаковая, а морские берега в одних местах поднимаются, в других опускаются.
Примером современного опускания суши могут служить берега Дании и Голландии. В 1696 г. в датском г. Аггере в 650 м от берега стояла церковь. В 1858 г. остатки этой церкви окончательно поглотило море. Море за это время наступало на сушу с горизонтальной скоростью 4,5 м в год. Сейчас на западном побережье Дании завершается возведение плотины, которая должна преградить дальнейшее наступление моря.
Такой же опасности подвергаются низменные берега Голландии. Героические страницы истории нидерландского народа — это не только борьба за освобождение от испанского владычества, но и не менее героическая борьба с наступающим морем. Строго говоря, здесь не столько наступает море, сколько отступает перед ним опускающаяся суша. Это видно хотя бы из того, что средний уровень полных вод на о. Нордштранд в Северном море с 1362 по 1962 г. поднялся на 1,8 м. Первый репер (отметка высоты над уровнем моря) был сделан в Голландии на большом, специально установленном камне в 1682 г. Начиная с XVII и до середины XX в., опускание почвы на побережье Голландии происходило в среднем со скоростью 0,47 см в год. Сейчас голландцы не только обороняют страну от наступления моря, но и отвоевывают землю от моря, строя грандиозные плотины.
Есть, однако, такие места, где суша поднимается над морем. Так называемый Фенно-скандинавский щит после освобождения от тяжелых льдов ледникового периода продолжает подниматься и в наше время. Берег Скандинавского полуострова в Ботническом заливе поднимается со скоростью 1,2 см в год.
Известны также попеременные опускания и подъемы прибрежной суши. Например, берега Средиземного моря опускались и поднимались местами на несколько метров даже в историческое время. Об этом говорят колонны храма Сераписа близ Неаполя; морские пластинчатожаберные моллюски (Pholas) проточили в них ходы до высоты человеческого роста. Это значит, что со времени постройки храма в I в. н. э. суша опускалась настолько, что часть колонн была погружена в море и, вероятно, долгое время, так как иначе моллюски не успели бы проделать такую большую работу. Позднее храм со своими колоннами снова вышел из волн моря. По данным 120 наблюдательных станций, за 60 лет уровень всего Средиземного моря поднялся на 9 см.
Альпинисты говорят: «Мы штурмовали пик высотой над уровнем моря столько-то метров». Не только геодезисты, альпинисты, но и люди, совсем не связанные с подобными измерениями, привыкли к понятию высоты над уровнем моря. Она им представляется незыблемой. Но, увы, это далеко не так. Уровень океана непрерывно меняется. Его колеблют приливы, вызванные астрономическими причинами, ветровые волны, возбуждаемые ветром, и изменчивые, как сам ветер, ветровые наганы и сгоны воды у берегов, изменения атмосферного давления, отклоняющая сила вращения Земли, наконец, прогрев и охлаждение океанской воды. Кроме того, по исследованиям советских ученых И. В. Максимова, Н. Р. Смирнова и Г. Г. Хизанашвили, уровень океана изменяется вследствие эпизодических изменений скорости вращения Земли и перемещения оси ее вращения.
Если нагреть на 10° только верхние 100 м океанской воды, уровень океана поднимется на 1 см. Нагрев на 1° всей толщи океанской воды поднимает его уровень на 60 см. Таким образом, вследствие летнего прогрева и зимнего охлаждения уровень океана в средних и высоких широтах подвержен заметным сезонным колебаниям. По наблюдениям японского ученого Миязаки, средний уровень моря у западного берега Японии поднимается летом и понижается зимой и весной. Амплитуда его годовых колебаний — от 20 до 40 см. Уровень Атлантического океана в северном полушарии начинает повышаться летом и достигает максимума к зиме, в южном полушарии наблюдается обратный его ход.
Советский океанограф А. И. Дуванин различал два типа колебаний уровня Мирового океана: зональный, как следствие переноса теплых вод от экватора к полюсам, и муссонный, как результат продолжительных сгонов и нагонов, возбуждаемых муссонными ветрами, которые дуют с моря на сушу летом и в обратном направлении зимой.
Заметный наклон уровня океана наблюдается в зонах, охваченных океанскими течениями. Он образуется как в направлении течения, так и поперек его. Поперечный наклон на дистанции 100-200 миль достигает 10-15 см и меняется вместе с изменениями скорости течения. Причина поперечного наклона поверхности течения — отклоняющая сила вращения Земли.
Море заметно реагирует и на изменение атмосферного давления. В таких случаях оно действует как «перевернутый барометр»: больше давление — ниже уровень моря, меньше давление — уровень моря выше. Один миллиметр барометрического давления (точнее — один миллибар) соответствует одному сантиметру высоты уровня моря.
Изменения атмосферного давления могут быть кратковременными и сезонными. По исследованиям финского океанолога Е. Лисицыной и американского — Дж. Патулло, колебания уровня, вызванные переменами атмосферного давления, носят изостатический характер. Это значит, что суммарное давление воздуха и воды на дно в данном участке моря стремится оставаться постоянным. Нагретый и разреженный воздух вызывает подъем уровня, холодный и плотный — понижение.
Случается, что геодезисты ведут нивелировку вдоль берега моря или по суше от одного моря к другому. Придя в конечный пункт, они обнаруживают неувязку и начинают искать ошибку. Но напрасно они ломают голову — ошибки может и не быть. Причина неувязки в том, что уровенная поверхность моря далека от эквипотенциальной. Например, под действием преобладающих ветров между центральной частью Балтийского моря и Ботническим заливом средняя разница в уровне, по данным Е. Лисицыной,- около 30 см. Между северной и южной частью Ботнического залива на дистанции 65 км уровень изменяется на 9,5 см. Между сторонами Ламанша разница в уровне — 8 см (Криз и Картрайт). Уклон поверхности моря от Ламанша до Балтики, по подсчетам Боудена,- 35 см. Уровень Тихого океана и Карибского моря по концам Панамского канала, длина которого всего 80 км, разнится на 18 см. Вообще уровень Тихого океана всегда несколько выше уровня Атлантического. Даже, если продвигаться вдоль атлантического побережья Северной Америки с юга на север, обнаруживается постепенный подъем уровня на 35 см.
Не останавливаясь на значительных колебаниях уровня Мирового океана, происходивших в минувшие геологические периоды, мы лишь отметим, что постепенное повышение уровня океана, которое наблюдалось на протяжении XX в., равняется в среднем 1,2 мм в год. Вызвано оно, видимо, общим потеплением климата нашей планеты и постепенным освобождением значительных масс воды, скованных до этого времени ледниками.
Итак, ни океанологи не могут полагаться на отметки геодезистов на суше, ни геодезисты — на показания мареографов, установленных у берегов в море. Уровенная поверхность океана далека от идеальной эквипотенциальной поверхности. К точному ее определению можно прийти путем совместных усилий геодезистов и океанологов, да и то не ранее того, как будет накоплен по крайней мере столетний материал одновременных наблюдений за вертикальными движениями земной коры и колебаниями уровня моря в сотнях, даже тысячах пунктов. А пока «среднего уровня» океана нет! Или, что одно и то же, их много — в каждом пункте берега свой!
Философов и географов седой древности, которым приходилось пользоваться лишь умозрительными методами решения геофизических проблем, тоже весьма интересовала проблема уровня океана, хотя и в другом аспекте. Наиболее конкретные высказывания на этот счет мы находим у Плиния Старшего, который, между прочим, незадолго до своей гибели при наблюдении извержения Везувия, довольно самонадеянно писал: «В океане в настоящее время нет ничего такого, чего мы не могли бы объяснить». Так вот, если отбросить споры латинистов о правильности перевода некоторых рассуждений Плиния об океане, можно сказать, что он рассматривал его с двух точек зрения — океан на плоской Земле и океан на сферической Земле. Если Земля круглая, рассуждал Плиний, то почему воды океана на обратной ее стороне не стекают в пустоту; а если она плоская, то по какой причине океанские воды не заливают сушу, если каждому стоящему на берегу совершенно ясно видна горообразная выпуклость океана, за которой на горизонте скрываются корабли. В обоих случаях он объяснял это так; вода всегда стремится к центру суши, который расположен где-то ниже ее поверхности.
Проблема уровня океана казалась неразрешимой два тысячелетия назад и, как мы видим, остается неразрешенной до наших дней. Впрочем, не исключена возможность, что особенности уровенной поверхности океана будут определены в недалеком будущем путем геофизических измерений, произведенных с помощью искусственных спутников Земли.
Гравитационная карту Земли, составленная спутником GOCE.
Сегодняшние дни …
Океанологи повторно изучили уже известные данные по росту уровня моря за последние 125 лет и пришли к неожиданному выводу - если на протяжении практически всего 20 века он поднимался заметно медленнее, чем мы считали ранее, то в последние 25 лет он рос очень быстрыми темпами, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.
Группа исследователей пришла к таким выводам после анализа данных по колебаниям уровней морей и океанов Земли во время приливов и отливов, которые собираются в разных уголках планеты при помощи специальных приборов-мареографов на протяжении века. Данные с этих приборов, как отмечают ученые, традиционно используются для оценки роста уровня моря, однако эти сведения не всегда являются абсолютно точными и часто содержат в себе большие временные пробелы.
«Эти усредненные значения не соответствуют тому, как на самом деле растет море. Мареографы обычно расположены вдоль берегов. Из-за чего большие области океана невключаются в эти оценки, и если они туда входят, то они обычно содержат в себе большие «дырки», - приводятся в статье слова Карлинга Хэя (Carling Hay) из Гарвардского университета (США).
Как добавляет другой автор статьи, гарвардский океанолог Эрик Морроу (Eric Morrow), до начала 1950-х годов человечество не вело систематических наблюдений за уровнем моря на глобальном уровне, из-за чего у нас почти нет достоверных сведений о том, как быстро рос мировой океан в первой половине 20 века.